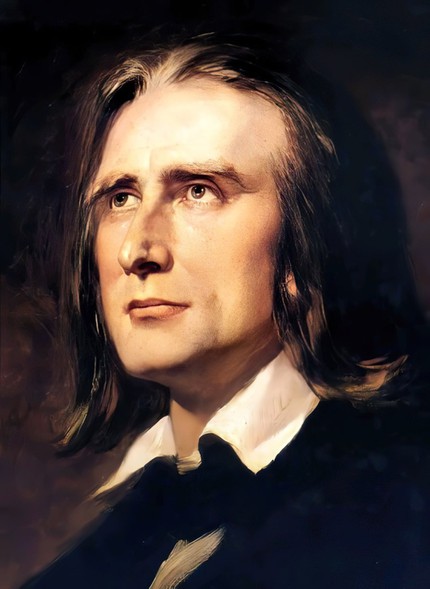Mazeppa

Симфоническая поэма по Гюго No. 6 (1847—1851)
Состав оркестра: 2 флейты, флейта-пикколо, 2 гобоя, английский рожок, 2 кларнета, бас-кларнет, 3 фагота, 4 валторны, 3 трубы, 3 тромбона, туба, литавры, треугольник, тарелки, большой барабан, струнные.
История создания
Образ Мазепы (ок. 1644—1709) в российском сознании навеки связан с поэмой Пушкина «Полтава» (1828) и написанной по ней опере Чайковского «Мазепа» (1884). Однако Лист, хотя и побывавший трижды в России и высоко ценивший творчество многих русских композиторов, знал другого Мазепу. Не старый политик, изменивший царю Петру и бежавший вместе со шведским королем Карлом XII после разгрома под Полтавой, а юный влюбленный был известен в Западной Европе, в частности, по «Истории Карла XII» Вольтера.
Вольтер так пишет об этом: «Он был пажем Яна Казимира и при его дворе приобрел некоторый европейский лоск. В молодости у него был роман с женой одного польского шляхтича, и муж его возлюбленной, узнав об этом, велел привязать Мазепу нагишом к дикой лошади и выпустить лошадь на свободу. Она была родом с Украины и убежала туда, притащив с собой Мазепу, полумертвого от усталости и голода. Его приютили местные крестьяне; он долго жил среди них и отличился в нескольких набегах на татар. Благодаря превосходству своего ума и образования, он пользовался большим почетом среди казаков, слава его все более росла, так что царь принужден был объявить его украинским гетманом».
Этот образ привлек многих романтиков: в судьбе Мазепы ярко выявилась излюбленная ими антитеза страдания и триумфа. Одним из первых поэтических воплощений юношеских приключений будущего гетмана стала поэма Байрона «Мазепа» (1818). Но больше всего поразило Листа большое стихотворение Виктора Гюго (1802—1885), вождя французских неистовых романтиков, опубликованное в цикле «Восточные мотивы» (1829). Молодой музыкант жил тогда в Париже, и в становлении его эстетики роль французского романтизма оказалась ведущей. Не мог пройти Лист и мимо серии картин французского художника Ора- са Берне, одна из которых изображает дикую скачку Мазепы, привязанного к крупу коня.
В Париже в 1847 году был издан фортепианный этюд Листа «Мазепа» с подзаголовком «Виктору Гюго»; через пять лет в новой редакции он вошел в знаменитый сборник «Этюды высшего исполнительского мастерства». Здесь программность подчеркивалась заключительной фразой стихотворения Гюго, помещенной под последним тактом:
...Он несется, он летит, он падает,
И подымается царем!
Но музыка этюда первоначально не связывалась с программным прообразом. Ее первое воплощение — в «Этюдах для фортепиано в форме 48 упражнений... юного Листа» (1826); второе, сильно переработанное, — в «Больших этюдах для фортепиано» (1838). И, наконец, уже в Веймаре, в расцвете творческих сил, Лист пишет симфоническую поэму № 6, посвященную, как и остальные 11, Каролине Сайн-Витгенштейн. Первое исполнение «Мазепы» состоялось в Веймаре под управлением автора 16 апреля 1854 года.
В качестве программы в партитуре полностью опубликовано стихотворение Гюго — в оригинале и в немецком переводе ученика Листа композитора П. Корнелиуса. Эпиграфом к стихотворению служит повторяющийся возглас из поэмы Байрона, данный во французском переводе:
«Away! —Away!»
Байрон. «Мазепа».
I
Когда, глотая крик и кровью весь обмазан,
Мазепа по рукам и по ногам был связан
И тело принял конь,
Скакун, что выкормлен морскою был травою,
Клубящий жаркий пар ноздрею огневою,
Копытами — огонь;
Когда ужом вертясь в удавке беспощадной,
Бессильной яростью повеселив изрядно
Спокойных палачей,
Мазепа рухнул вдруг на круп коня могучий,
Покрыт испариной, с губами в пене жгучей,
С кровавым сном очей, —
Раздался крик. И вот, сливаясь в ком единый,
Скакун и человек уже летят равниной
С ветрами наравне.
Безумным топотом взметая вихри праха,
Подобны облаку, где молния с размаха
Блестит в голубизне.
Летят. Уносятся, как бы в дыханье бури,
Рожденной между гор средь ледяной лазури,
Как черный ураган,
Потом виднеются лишь точкою мгновенной,
И даль глотает их, как легкий сгусток пены
Глотает океан.
Летят. Огромна даль. Клоками голубыми
Безмерный горизонт разъемлется пред ними,
Опять смыкаясь вдруг.
Летят, крылатые... И степи, рощи, пашни,
И цепи горные, и города, и башни
Качаются вокруг.
И если, колотясь от бега головою,
Несчастный дернется, — пугливый конь дугою
Взовьет крутой прыжок
И углубляется в простор непроходимый,
Где складками песок, сухой и недвижимый,
Как серый плащ залег.
Все зыблется вокруг, все млеет в красках странных;
Он видит дрожь лесов, движенье туч пространных,
Далеких гор хребет
И замки, что горят лучей вечерним пылом;
Глядит он, — и табун кобыл, покрытых мылом,
За ними мчится вслед.
А в небе, где уже сникает блеск вечерний,
Где море облачков из пурпура и черни
И море туч густых, —
Разбрызгивая их в своем скольженьи низком,
Светило мраморным над ним кружится диском,
Сплошь в жилках золотых.
Блуждает взор его, и кудри сбились в пену;
Свисает голова: песчаную арену
Багрит, стекая, кровь,
И в тело вздутое жестокая веревка
Змеей впивается, что, извиваясь ловко,
Терзает вновь и вновь.
И конь невзнузданный карьер свой длит упорно,
И кровь несчастного летит на иглы терна,
И кожи лоскуты.
Увы! Уже вослед кобылам исступленным,
Что мчатся позади, стай воронов со стоном
Слетают с высоты.
Грачи и филины с безумными глазами,
Орлы, привыкшие кружить над мертвецами,
Незримый днем орлан
И коршун огненный, что лапою своею
В боку у раненых копается и шею
Впускает в недра ран, —
Все их преследуют, летя за скачкой ярой,
Покинув тень дубов и гнезда в башне старой,
И трещины руин.
А он, в крови, в тоске, не слыша стаи жадной,
Дивится, поглядев: кто развернул громадный
И черный балдахин?
Ночь опускается, беззвездно и угрюмо,
И свора хищников летит на крыльях шума
За пленником нагим.
Он видит черный смерч там, в вышине туманной.
Потом теряет их, и только клекот странный
Висит в ночи над ним.
И вот, спустя три дня безумной скачки, цепи
Холмов преодолев, пройдя леса и степи
И холод быстрых вод, —
Конь сразу валится, сопровожденный криком,
Стальной подковою гася на камне диком
Последней искры взлет.
И пленник — распростерт, беспомощный, несчастный,
Обрызган кровью весь, краснее розы красной,
Что расцвела весной,
И черной тучею над ним кружатся птицы,
Мечтая клюв вонзить в кровавые глазницы,
Сожженные слезой...
И все ж казненному, что стонет средь равнины,
Живому мертвецу — народы Украины
Вручат судьбу свою,
Настанет день, и он на бранном пепелище
Орлана и орла накормит сытной пищей —
Погибшими в бою.
Его величие из этой пытки встанет.
Жупаном гетманским он гордый стан обтянет
И двинет булавой;
И ринется вперед, величественно-дикий,
И страстная толпа свои смешает клики
С фанфарой боевой!
II
Так если человек, судьбою озаренный,
Вдруг брошен связанным на круп твой исступленный,
О гений, звездный конь, —
Напрасно бьется он!
В безумии полета
Ты мира здешнего срываешь прочь ворота,
Презрев рога погонь!
Ты пролетаешь с ним вершины гор, пустыни,
Моря и города, и вьешься в тверди синей,
Пронзая небосклон,
И стаи демонов, разбуженных полетом,
Кружат над путником по сумрачным высотам,
Как черный легион.
На крыльях пламенных он мчится легче пуха
Сквозь грань реального, сквозь океаны духа,
Пьет из предвечных рек,
И в грозовой ночи, и в полной звездным светом,
Кидая волосы вслед яростным кометам,
Вьет в небо дивный бег.
Шесть гершелевых лун, кольцо вокруг Сатурна,
И полюс, где горит, переливаясь бурно,
Магнитных зорь дуга, —
Все видит он; твой лет, сверкающий в эфире,
Пред ним иных миров развертывает шири,
Иных идей луга.
Кто, кроме ангелов и демонов, узнает,
Какою мукою полет его пронзает,
Каким полны лучом
Его глаза, когда пред ними молньи блещут,
И сколько черных крыл его во мраке хлещут,
Как ледяным бичом?
Он стонет от тоски. Ты мчишься беспощадно,
Он бледен, изнурен своею скачкой страдной,
Дыбится ужас в нем.
Твой каждый след ему — как страшный сон могилы.
Но вот приходит срок... он рушится без силы
И вновь встает — царем!
Листа вдохновила прежде всего основная, первая часть стихотворения, полная красочных картин, жутких подробностей, ощущения ужаса смерти — в сопоставлении с торжеством несломленного героя, приветствуемого целым народом. Любопытно, что Лист, гостивший в украинском поместье Каролины Витгенштейн и посвятивший ее дочери обработки для фортепиано двух известных украинских песен (1847—1848), охарактеризовал народ, который приветствует своего гетмана, напевом в венгерском стиле вербункош, столь привычном для композитора. Музыка поэмы отличается конкретными деталями изобразительного характера, для чего использован тройной состав оркестра с обилием ударных и таким редким инструментом, как кларнет in D (отличающийся от обычного меньшим размером и обладающий более пронзительным звуком). Символические же параллели второй части стихотворения Гюго — дикая скачка пленника и полет в надзвездных сферах и иных мирах гонимого своим гением художника — хотя и важные для Листа, вряд ли подвластны музыкальному искусству вообще: их трудно обнаружить при непосредственном слушании.
Музыка
Начало поэмы сразу же вводит в центр драматических событий — без подготовки, без размышлений о жизни и смерти. В отличие от большинства симфонических поэм Листа здесь нет медленного вступления. Слышится пронзительный крик (акцентированный аккорд духовых с ударом тарелок), который неизменно ассоциируется со свистом бича, хотя ни в одном из литературных источников об этом не говорится. Начинается дикая скачка, изобретательно переданная пассажами струнных, подчеркнутыми равномерными ударами литавры, потом — большого барабана. Постепенно звучность нарастает и наконец является тема героя. Сурово и гордо возглашают ее тромбоны с тубой и виолончели с контрабасами в октаву. Она проводится шесть раз, будучи единственной вплоть до финального апофеоза (Лист использует здесь свой излюбленный принцип монотематизма). Вначале усиливается героический склад темы (мощное фортиссимо духовых инструментов). Затем слышатся скорбные вздохи и жалобы (среди других деревянных — экспрессивно звучащие английский рожок и бас-кларнет); их сопровождают ужасные видения (струнные играют древком смычка). Но воля героя не сломлена, и тема его снова предстает в первоначальном виде, сопровождаемая фанфарами медных инструментов. Потом наступает катастрофа; скачка обрывается, затихающие удары литавры становятся все более редкими; воцаряется зловещая тишина. Тема героя, прежде горделивая, дробится, словно обессиленная, предсмертные стоны срываются с уст «живого мертвеца». Внезапно картина резко меняется: звучат, нарастая, победные фанфары трех труб, открывая блестящий марш, чередующийся с плясовой песней в народном духе — новыми темами поэмы. Последнее проведение плясовой tutti приобретает героический и ликующий характер, что нередко в апофеозах симфонических поэм Листа. На кульминации еще раз предстает тема Мазепы, теперь торжествующая и победная, — гимн мужеству и воле человека, преодолевшего все препятствия и подчинившего себе судьбу.
А. Кенигсберг