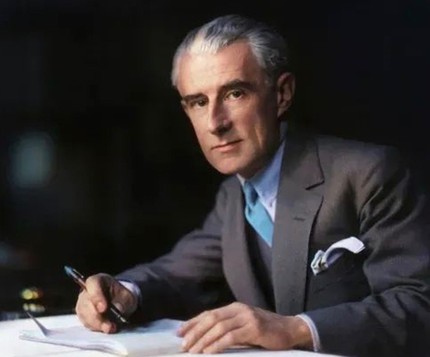Gaspard de la nuit
В июне 1908 года Равель гостил у своих друзей на вилле Гранжет, вблизи Парижа, работал там над новым фортепианным циклом «Ночной Гаспар» (в издании под редакцией В. Софроницкого — «Шорохи ночи»), 17 июля он сообщает об окончании цикла и о намерении работать над корректурой «Испанского часа». 3 сентября фортепианные пьесы были сданы издателю, и в это время композитор узнал, что «Испанский час» включен в афишу «Опера Комик».
9 января 1909 года Р. Виньес сыграл впервые сюиту «Ночной Гаспар». Этот «удивительный триптих» (выражение А. Корто) написан под впечатлением поэм в прозе Алоизиюса Луи Бертрана, вышедших первым изданием в 1842 году. Они привлекли внимание многих современников. К. Сен-Бев назвал эту книгу «редкой и драгоценной», В. Гюго говорил, что читал ее с таким же увлечением, как и стихи А. Шенье. Книга выходила вновь в 1863, 1895 (с фронтисписом Ф. Ропса) и 1908 годах. Последнее издание и попало в руки Равеля через посредство Виньеса и сразу заинтересовало его. Это могло показаться неожиданным: если элегическая грусть «Ундины» и была созвучна лирическим нотам равелевских произведений, то мрачная фантастика «Виселицы» и «Скарбо», напоминающая об образах Гойи или Гофмана, лежала вне привычной сферы его музыки. Впрочем, пьесы остались единственными во всем наследии Равеля: нигде больше у него не встречалось такой концентрации выражения мрачного и зловеще-фантастического.
В качестве эпиграфов к пьесам Равель приводит поэмы в прозе А. Бертрана. Но, как правильно указывает Корто, хотя композитор и стремился «в каждой пьесе детально воплотить послуживший ей литературный прообраз... мы все же заметим, что Равель игнорирует перипетии сюжета, сохраняя лишь его основные черты, впечатляющее начало, становящееся отправной точкой для новой поэмы...».
Главное в обобщенности образа, которая делает музыку значительной и понятной помимо программы. Можно установить связь с романтической программностью, примеры ее Равель мог найти не только у Листа, но и у своего соотечественника Берлиоза. Правда, он не жаловал вниманием автора «Фантастической симфонии» и был далек от него по складу дарования. И все же в трактовке принципа программности у них есть нечто общее.
На первом плане здесь уже не объективное отражение внешнего мира, к чему стремился композитор в первом фортепианном цикле. Равель впервые вступил в сферу таинственного и мрачного, в его музыке прозвучала трагическая нота, и возможно, она связана с причинами личного характера: цикл сочинялся в последнюю пору болезни Жозефа Равеля, приведшей его к кончине 30 октября 1908 года. Как бы то ни было, произведение захватывает и волнует слушателя импульсивностью и драматической взрывчатостью музыки. Это качество проявилось в дальнейшем — в партитурах «Вальса» и Концерта для левой руки. «Ночной Гаспар» — новый образец равелевского пианизма, достигающего вершины как по богатству колористического письма, так и по виртуозности.
Пианизм Равеля восходит к листовской традиции. Но в «Ночном Гаспаре» он идет также и от балакиревского «Исламея», что особенно ощутимо в третьей пьесе. Композитор по-своему пользуется различными формами мелкой и крупной техники, изобретает собственные приемы (например, ритмически неравномерная пульсация аккордов в «Ундине»). Обычная для Равеля забота об отделке деталей доведена здесь до предела. Примечательно, что все богатство изысканной фортепианной фактуры создано композитором, не владевшим виртуозной техникой игры на инструменте. Равель ставил перед собою подчеркнуто виртуозные задачи и находил решения, удивительные по своей неожиданности.
«Ундина» — первая пьеса сюиты — третье обращение Равеля к звукописи водной стихии, совсем непохожее на предыдущее: в литературе не раз отмечалось, что он нашел новые средства для воплощения того, что А. Корто назвал «зыбкой таинственностью». Тайны не было в «Игре воды», где загадочно лишь упоминание о речном боге, купающемся во вполне реальной водной стихии. В «Ундине» стихия только фон, на котором выступают образы легенд и преданий, и это положило отпечаток на психологический строй музыки. Она поет о фантастическом существе, возникшем из воды, наделенном способностью чувствования, хотя и не столь глубокого, как у человека. Это песня Ундины, а не только шаловливых струй, так причудливо играющих в музыке «Игры воды». Впрочем, звуковой образ водяных капель воссоздан в «Ундине» с изысканной утонченностью. Он тесно связан с поэтической программой равелевской пьесы.
Через всю пьесу проходит нежная, несколько холодноватая мелодия песни Ундины, оттененная прозрачным сопровождением. Это красиво и воспринимается как сказочное видение. Простота образа — капли воды — сочетается с поэтичностью его воплощения, явление природы предстает одновременно и в своей объективной сущности и очеловеченным.
Холодноватость напева Ундины подчеркнута автоматичностью падающих капель, но в их размеренность внесено разнообразие, создающее постоянную изменчивость, от которой во многом зависит очарование пьесы. Эффект достигается благодаря применению изощренной техники варьирования фактуры, которую можно проследить последовательно от эпизода к эпизоду. Впрочем — это тема для специального теоретического этюда.
Вариантность фактуры заложена в основном зерне — фигуре первого такта, где повторность мажорного трезвучия осложнена своеобразными перебоями текучести в общих рамках единого ритмического движения (нижние ноты обозначают тоническое трезвучие Сis, верхние — звук а). В дальнейшем фигура выступает в новых формах, очень своеобразных в пианистическом отношении. Иногда это связано с перенесением верхнего звука а на октаву выше, в других случаях — распределением пассажа между двумя руками; возникают и еще более сложные варианты основной формулы, и все равно интересно, все разнообразит напев водяных капель.
Как выделяются на общем фоне новые звенья фортепианных пассажей! Таков единственный в пьесе пассаж двойными нотами: хроматический ход нижних звуков составляет с верхним цепь чередующихся терций и квинт — прием, напоминающий музыку Листа, его этюд «Блуждающие огни».
По-новому использована и техника сложных арпеджио, хотя и не в такой степени, как в двух более ранних «водяных» пьесах. Сложность арпеджио — в нестандартном расположении интервалов, несовпадении позиций рук и подчеркивании звуков, чуждых основной гармонии. Все это придает звучанию самобытный «равелевский» характер.
Изложение напева Ундины, проходящего через всю пьесу, также разнообразно: спокойное legato вначале, перенос на октаву выше, далее мелодия звучит в арпеджированных октавах, в одном эпизоде — даже тройных и т. д. Пьеса Равеля трудна для исполнения, тем более что в ней преобладают мягкие, приглушенные звучания, требующие крепости пальцев и тончайшего ощущения клавиатуры.
Что касается образно-эмоционального содержания мелодии, то оно несколько внеличное — ведь и сама Ундина не человек, отношение поэта к ее переживаниям ласково-ироническое, что и передано в музыке, где плавность развертывания темы подчеркнута текучестью сопровождения:
«Ундина» является связующим звеном между пьесами циклов «Отражения» и «Ночной Гаспар» — в ней сохранились еще некоторые черты импрессионистической звукописи, в то время как две другие пьесы «Ночного Гаспара» — сфера романтической фантастики, кошмаров и видений. Трудно представить это в интерпретации такого композитора, как Равель, но он нашел средства для их воплощения.
Что могло быть более чуждого искусству Равеля, чем ужасающая картина виселицы, воссозданная в поэме А. Бертрана. Однако композитор не побоялся избрать ее в качестве программы второй пьесы, чтобы показать свою силу в решении столь необычной для него художественной задачи, и добился полного успеха, создав необыкновенное произведение, и не случайно С. Рихтер назвал «Виселицу» в числе своих любимейших равелевских произведений.
Казалось бы, этот сюжет по своей средневековой характерности далек от эпохи создания «Ночного Гаспара». Но зловещие видения прошлого вскоре возродились в образах мировой войны, и Равель был не столь уж одинок в обращении к теме, по-новому оправданной в годы, когда, по словам А. Блока, все отчетливее слышался «запах гари и железа». Конечно, Равель едва ли думал об этом в 1908 году, как и в дальнейшем, вплоть до начала войны. Вероятно, отзвуки нарастающей тревоги могли проникнуть в его подсознание. Как бы то ни было, Равель оставался подлинным хозяином своих эмоций и во время пребывания в мире трагического и страшного, сохраняя полную власть над материалом и достигая того совершенства воплощения замысла, которое отличает его лучшие произведения.
В этой пьесе звучат «драматические акценты» небывалой еще у Равеля силы. Она выделяется в его творчестве по своему трагизму и острой экспрессивности музыки. Эстет, тонко чувствующий и живописующий окружающее, поэт тончайших нюансов, лишь изредка прорывающийся в сферу реального быта, выступил теперь мастером, которому оказалась доступна область трагического.
Пьеса интересна по фортепианной фактуре, по использованию массивных аккордовых напластований, окружающих мелодический голос, по мастерству техники педали (звук b, звучащий сначала и до конца). Для воссоздания магически завораживающих аккордов требуется целая гамма колористических звучаний. «Невыразимая таинственность этих загадочных аккордов, заманивающих во тьму своих диссонансов и призрачных разрешений, сопровождается томительной атмосферой, созданной непрерывной приглушенностью, парящей над всей композицией, когда рр уступает место mf только лишь однажды в течение трех тактов».
К этой характеристике гармоний Равеля можно добавить наблюдение Альшванга, указывающего на важные особенности их строения. Сходящиеся в своем движении аккорды построены на шестизвучном звукоряде (целотонной гамме от as с одним пониженным звуком — ces), а в 23—24 тактах «движение созвучий построено на обращениях другого звукоряда: g-gis-ais-h-cis-d-e-f, то есть гаммы тон-полутон, все звуки которой звучат одновременно». Возможно, что такие сложные гармонии возникли под влиянием Римского-Корсакова (чьим именем часто называют гамму тон-полутон); во всяком случае, принцип ладового построения нов для Равеля.
Он достигает драматической напряженности без подчеркнутого нагнетания эмоций, оставаясь в рамках медленного, нигде не нарушаемого движения, сдержанностью гаммы динамических оттенков (от р до ррр, причем ррр преобладает), подчеркнутой ремаркой sans expression. Словом, композитор пользуется средствами, которые делают музыку спокойной, в то время как она должна передать страх и оцепенение, зловещую атмосферу средневековья, в соответствии с поэмой Бертрана и близких ей строк Гёте, предпосланных пьесе.
Это настроение создается несколькими элементами, прежде всего повторением звука b, тянущегося со зловещей настойчивостью в течение всей пьесы, возникающего из тишины и уходящего в тишину. Затем — мелодический голос, полный отрешенности и бесстрастия, особенно страшных на фоне призрачного колокольного звона. Мы уже указывали на выразительную силу гармоний сходящихся аккордов. С полной опустошенностью звучит одинокая мелодическая линия на фоне угнетающе монотонного органного пункта. Все это требует от пианиста полного овладения средствами тембрового колорита. Жиль-Марше считает, что для исполнения этой пьесы необходимо иметь в своем распоряжении двадцать шесть оттенков звучания, причем в пределах узкого диапазона динамики. Можно иметь и другое мнение о количестве нюансов, но несомненна их необычайная тонкость, связанная с психологическим содержанием музыки.
Как известно, Равель не любил раскрывать «тайны» интерпретации своих произведений, но в отношении «Ночного Гаспара» он сделал однажды исключение, сказав: «Для „Скарбо" и „Ундины", которые суть подражания, подходит что-то вроде сентиментальности Шопена и Листа, в то время как „Виселица" проходит в однообразном движении, неумолимом, ужасающем в своей простоте». Другими словами, сам автор ставил эту пьесу на особое место, указывая на высокую простоту и строгость ее трагической экспрессии, столь трудной для выражения. В музыке — оцепенение страха, черная магия медлительных и упорных звонов, вызывающих в памяти воспоминания об искусстве Э. По, Ф. Ропса и других мастеров иррационального искусства. Музыковед Ж. Брюи полагает, что Равель не отказался бы играть эту пьесу «на одном из расстроенных фортепиано, которые встречаются иногда в заброшенных домах», находя в этом дополнительные нюансы.
Известный исследователь равелевской музыки Ж. ван Аккер пишет, что в этой «спокойной драме» говорится о вещах драматичных, которые таковы по самой своей сути. Это воздействует сильнее, чем иллюзия драматизма, выраженная в той же манере.
В суровой странице равелевской музыки решена сложнейшая художественная задача —- передача настроения мрака и ужаса — без нарочитой напряженности эмоций, остающихся на втором плане, затаенных и потому воздействующих на слушателя с особенной силой.
Напротив, в «Скарбо», третьей пьесе (в русских изданиях — «Домовой» либо «Призрак»), выражение чувства доведено до взрывчатой кульминации, и это — по-другому — необычно для такого композитора, как Равель. Музыка приобретает порой исступленный характер, но ее развитие вмещено в рамки строгой конструкции, без чего она легко могла бы превратиться в импровизацию. Все порывы и злобные выходки призрака обузданы волей композитора.
И на этот раз Равель возводит здание из немногих элементов, сопоставленных по точному расчету, в соответствии с законами драматического нарастания. Равель стремился к уравновешенности даже там, где самый сюжет вводил его в область непонятного и нарушающего обычные представления.
Иррациональность заложена в объекте восприятия. Композитор строит пьесу на темах — поэтических символах, но затем они становятся материалом для разработки, где литературное начало подчинено чисто музыкальному. Отсюда и форма пьесы, приближающаяся к сонатной, — в ней есть экспозиция, большая и яркая разработка, динамическая реприза. Фантастическое и во многом капризное повествование введено в рамки стройной музыкальной формы. Недаром Ролан-Мануэль называл автора «Ночного Гаспара» геометром тайны!
«Скарбо» — произведение высочайшей виртуозности (Равель сказал однажды В. Перлемютеру, что хотел написать пьесу, труднее балакиревского «Исламея») и поэтичности. Его образность почти зрима, она не в передаче внешних подробностей, а в раскрытии переживаний человека, неожиданно столкнувшегося с непонятным и страшным видением. История музыки накопила богатый выбор средств для воплощения мрачно-фантастических образов, начиная со знаменитой Сцены Волчьей долины в веберовском «Фрейшютце». Среди них и широкое применение уменьшенных септаккордов, и необычные приемы звукоизвлечения (особенно нов для своего времени был финал «Фантастической симфонии» Берлиоза), и символика некоторых мелодий (особая роль секвенции Dies irae в произведениях романтиков). К этому надо прибавить гамму Черномора и другие ладовые образования, введенные в обиход русскими композиторами.
Равель отказался от уже найденных средств (сохранив, пожалуй, лишь быстрое повторение одного и того же звука). Его приемы отобраны точно, во многом новы и оригинальны. Именно они и определяют исключительную выразительность музыки «Скарбо», где контрасты динамики, богатство пианистической фактуры вытекают из разработки немногих элементов. Прием, характерный для всего творчества Равеля, являющийся одной из основ его композиторского мастерства.
Дело еще и в сосредоточенности внимания на отдельных образах, которые появляются уже в начальных тактах, — «интонация ужаса» в басу, усиленная быстрыми повторениями звука dis, резко диссонирующего с аккордом в нижнем регистре. Эти и несколько следующих тактов — тревожный взлет пассажей и пронзительное тремоло — вводят в господствующее настроение равелевской пьесы. Вся смятенность, все загадочное и ужасающее выражено в музыке, казалось бы, несовместимым с ее характером чувством меры, точностью пропорций. Этим «Скарбо» резко отличается от многих близких ему по содержанию произведений экспрессионистического искусства, в которых преувеличенность выражения эмоции становится эстетическим принципом.
Экспозиция пьесы складывается из двух элементов: первый, вырастающий из основной интонации, под которую сам композитор подтекстовал слова «quelle horreur!» («какой ужас!»), и второй, также краткий, полный затаенной тревожности, несущий в себе элементы целотонности:
Второй элемент приобретает еще большую выразительность в дальнейшем, в движении шестнадцатых, приводящем к драматическому взлету первого мотива.
Далее следует фантастический эпизод, где краткие реплики аккордов (третий тематический элемент с его остроподчеркнутым ритмом) оттенены трепетными звучаниями ломаных октав на фоне выдерживаемой основной гармонии. Отсюда композитор приходит к новому возвращению главного мотива. Затем темы появляются в обратном порядке, причем приобретают еще большую активность — этому способствует мастерское использование необычных средств пианистического письма. В конце концов развитие подводит к кульминации, ошеломляющей натиском неистовых звучаний.
В репризе темы меняются местами, в ней много нового, преобразующего необыкновенно богатую фактуру. Нельзя не согласиться со словами Альшванга, утверждающего, что по пианистическому блеску это произведение превосходит все написанное Равелем. Можно даже сказать, что «Скарбо» — одна из самых трудных пьес во всем фортепианном репертуаре. Композитор использует различные приемы для динамизации образа. Один из главных — превращение пассажей мелкой фортепианной техники в массивные аккордовые последования, перенос их из одной октавы в другую, что позволяет захватить почти весь диапазон. Часто в основу положен обычный пианистический прием, но он преображен неожиданными поворотами.
Много примеров этого можно найти в репризе; отметим ходы параллельными секундами, сначала — восьмыми, затем — шестнадцатыми и, наконец, — в нисходящем ломаном движении. Помимо того, что так создается удивительное по своему фантастическому колориту нарастание, этот прием, взятый сам по себе, обогащает фортепианную технику новыми аппликатурными возможностями, в частности — в использовании двойных нот — вслед за терциями, секстами, квартами появляются секунды. Эти возможности еще больше расширил Скрябин, написавший несколько времени спустя этюды в квинтах, септимах и нонах. Уже говорилось о гирляндах диатонических секунд в Третьем фортепианном концерте Прокофьева, где они создают особый эффект металлического блеска. У Равеля секундовые гирлянды разнообразнее и изысканнее, это одно из его пианистических открытий.
Музыковед Р. Майерс считает возможным, что секундовые пассажи могли быть изобретены композитором благодаря некоторым особенностям строения его рук, и в то же время справедливо находит здесь, как и в других виртуозных элементах пьесы, значительное расширение возможностей техники исполнения, идущей от Листа.
В последних страницах пьесы налетает еще один звуковой шквал — вздымаются волны бравурного аккордового martellato, в которое врываются краткие реплики третьей темы. «Мотив ужаса» и страшное видение, поднявшееся до высоты готической колокольни, исчезают, оставив след лишь в мерцающем тремоло, завершающем музыку в полном соответствии с поэтической программой.
В фортепианной фактуре «Скарбо» вновь оживают некоторые находки более ранних произведений Равеля, например — гроздья секунд, но в ней также много нового, неизменно связанного с требованиями психологической образности. В этом отношении Равель тесно связан с традицией романтического пианизма, в частности — с весьма ценимыми им листовскими «Этюдами трансцендентного исполнения» (можно назвать этюд «Метель», где вся пианистическая разработка вырастает из поэтического содержания, а вовсе не из элементов звукоподражания, подчеркиваемых иными исполнителями. Для Листа в вое зимнего ветра слышалось нечто сокровенное, пробуждающее глубокий душевный отклик). Так и в «Скарбо» — главное не в следовании за сюжетными деталями поэмы Бертрана, а в воплощении образов мрачной фантастики. Брюи в своей книге о Равеле проводит аналогию между «Ундиной» — поэмой «водяной и лунной» и «Скарбо» — «лунной и ртутной». Во многих отношениях это один из последних всплесков позднего романтизма, уже перерастающего в экспрессионизм,, но совсем в иные формы, чем у Шёнберга и его последователей.
Не раз, и не без оснований, говорилось об антиромантизме Равеля, в том числе и по отношению к циклу «Ночной Гаспар». Пианист В. Перлемютер, проходивший этот цикл с автором, вспоминает, как тот однажды сказал: «Я хотел сделать карикатуру на романтизм», но тотчас же добавил совсем тихо: «Быть может, я остался там». Композитор был прав — «Ночной Гаспар» остался самой романтической страницей его музыки. Конечно, романтизм предстает в новом облике искусства XX века, преобразующего традицию, вносящего в нее современное содержание.
В этой связи можно отметить концентрацию психологизма, которая ощутима даже в «Ундине», не говоря уже о двух других пьесах. Их образы фантастичны, одухотворены поэтическим чувством. Задачи импрессионистической звукописи отступают на второй план, главное в раскрытии внутреннего мира, именно в этом Равель приближается к эстетике романтизма, и тем более, что в его музыке сочетается реальное и нереальное, как в новеллах Гофмана. Вот почему композитор нашел источник вдохновения в произведениях Бертрана, написанных под влиянием немецкого романтика, чьи слова не случайно предпосланы вместе с поэмой в качестве эпиграфа к третьей пьесе.
«Ночной Гаспар» — произведение необычное по своему содержанию не только для Равеля, но и для французской музыки начала века, далекой от романтической фантастики, оживающей в загадочных звучаниях этих пьес. Они имеют немного аналогий и в современном им европейском искусстве, разве лишь Скрябин, в таких произведениях, как Девятая соната и «Темное пламя», входит в сходную психологическую сферу.
Можно провести некоторые параллели и в области других искусств, вспомнить картины бельгийца Д. Энзора и в особенности норвежца Э. Мюнха. «Вампир», «Крик» — все они также очень ярко выражают чувство иррационального, в чем-то напоминая равелевский триптих. Но он отмечен совершенно иным качеством поэтического видения и остался в фортепианном творчестве Равеля такой же кульминацией и поворотным пунктом, как в другом жанре «Дафнис и Хлоя».
И. Мартынов
Фортепианное творчество Равеля →