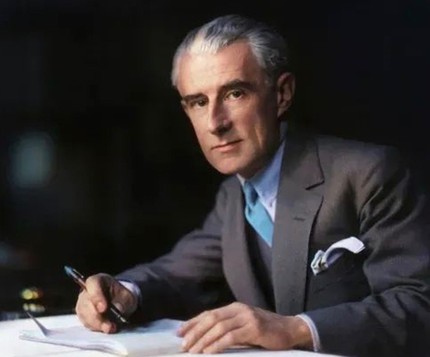Trois poèmes de Mallarmé
Вокальный цикл (1913)
Во время постоянного общения со Стравинским было создано одно из самых примечательных произведений Равеля — «Три поэмы Малларме» для голоса и фортепиано. Оно имеет важное значение не только само по себе, по своим достоинствам, но и в качестве этапа стилистической эволюции его автора, соприкоснувшегося в те дни с некоторыми исканиями своего русского друга. Стравинский вспоминал впоследствии в своих разговорах с Р. Крафтом: «Во время пребывания Равеля в Кларане я сыграл ему свои японские стихи. Лакомый до ювелирной инструментовки и чуткий к тонкостям письма, он сразу же увлекся ими и решил создать что-либо аналогичное. Вскоре он сыграл мне свои очаровательные „Стихи Малларме"». Здесь Стравинский не совсем точен — весною в Кларане была написана лишь первая поэма, две другие закончены в Париже и Сен-Жан-де-Люс в мае и августе 1913 года. Возможно, что замысел уже существовал раньше и прослушивание произведения Стравинского лишь ускорило его осуществление.
Не исключено также, что создание «Трех поэм» явилось непосредственным откликом на знакомство с музыкой «Лунного Пьеро», которая живо интересовала и Стравинского. Но вернее сказать, что в Равеле вновь проснулось давнее влечение к поэзии Малларме и желание воплотить в своей музыке наиболее изысканные вдохновения поэта. Любопытно, что Дебюсси также написал музыку на три стихотворения Малларме, и в двух случаях из трех выбор композиторов совпал. Это вызвало новый инцидент, омрачивший их отношения. Дело в том, что Дебюсси обратился к наследникам Малларме с просьбой о разрешении использовать тексты стихотворений уже после Равеля и получил отказ. Впоследствии недоразумение было улажено, французская музыка обогатилась двумя прекрасными вокальными циклами.
Равель с удовольствием информировал друзей о ходе работы, предлагал им угадать названия избранных стихотворений и был очень рад, что они не смогли сделать этого полностью. 12 апреля он пишет своему ученику и другу Ролан-Мануэлю: «...вы выиграли только дюжину миндальных печений: 1-е, действительно, „Вздох". Но дамские часы с двойной крышкой предназначались тому, кто угадает и 2-е, то есть „Тщетную мольбу"». На этих двух стихотворениях остановил свой выбор и Дебюсси. Что касается третьего, то им оказалось «На крупе скакуна лихого» — одно из самых сложных по поэтическим образам в наследии Малларме.
Равель закончил «Поэмы» ранней весной. Во всяком случае, уже 2 апреля он обращается в Музыкальное общество независимых с предложением организовать «скандальный концерт» с программой, включающей «Лунного Пьеро» Шёнберга, «Три стихотворения из японской лирики» Стравинского и coбственые «Поэмы». Этот план был осуществлен в следующем году с одним изменением — «Индусские поэмы» Деляжа заменили «Лунного Пьеро». Что касается Стравинского, то он оценил поэмы Равеля чрезвычайно высоко, а впоследствии даже говорил, что предпочитает их всей его музыке.
Думается, что Дебюсси и Равель не случайно и не сговариваясь почти одновременно обратились к поэзии Малларме, которая к этому времени уже не находилась в центре общего внимания, как это было в дни их юности. Они нашли в хорошо известных им стихах новые возможности музыкального прочтения в духе увлекавших их тогда эстетических концепций, индивидуальных у каждого, но соприкасавшихся в исканиях простоты средств и в стремлении усилить роль конструктивного начала. В результате оба создали нечто неожиданное для ценителей их прежних произведений, оба показали отточенное мастерство письма в форме предельно четкой в своем рисунке миниатюры, где исключительно важен каждый штрих. Оба шли к утверждению новой техники письма, родственной, как это отмечалось не раз, манере японских художников. Равель особенно интересовался ими, а впоследствии устроил японский уголок в саду своего загородного дома. Сравнительный анализ вокальных циклов двух композиторов мог бы стать предметом специального этюда, но и при беглом взгляде на них становится ясной множественность путей, которые вели французскую музыку из цитадели импрессионизма к новым горизонтам, уже открытым перед духовным взором ее крупнейших мастеров.
«Три поэмы Малларме» — одно из самых утонченных произведений Равеля, написанное в то время, когда вдохновивший его поэт уже перестал играть роль «властителя» эстетических вкусов (правда — не всеобщих, а определенных литературных кругов) и не вызывал дискуссий. Впрочем, это не означало, что теперь начали лучше понимать весьма туманную суть его стихов, но они стали реальностью, которая принималась как должное, не пробуждала, как в прежние времена, бурных споров и протестов.
Малларме был, как известно, виднейшим представителем символизма, создателем собственной эстетической системы. Он стремился передать в своих стихах мир крайне усложненных чувствований и переживаний, находя для них поэтические символы, по большей части крайне трудные для понимания. Поэт считал, что каждое отвлеченное понятие имеет прообраз во внешнем мире и задача поэта в том, чтобы воплотить эту связь в художественных образах, приобретающих крайне субъективный характер, что очень усложняет понимание возникающих у автора ассоциативных связей. Не трудно заметить, что это далеко от Равеля, от свойственной ему точности образного видения мира и стремления к конкретности его воплощения.
Однако в поэзии Малларме было и нечто созвучное Равелю. А. Франс говорил об авторе «Послеполуденного отдыха фавна», что он «...остается золотых дел мастером, даже когда парит в облаках». Равель мог проникнуться уважением и пониманием к предельной отточенности мастерства Малларме, тем более что произведения поэта полны обаяния, к которому не остался равнодушным и Дебюсси. Оба композитора подтвердили справедливость слов А. Франса: «Как не поддаться прелести этого таланта, который сквозь сумрак излучает сияние, составляющее достоинство алмазов и драгоценных камней, и сверкает лучами, пронзающими сердце?».
Все это ощутил и Равель, вчитываясь в строки поэта, вызвавшие отклик в его музыкальной фантазии. Работая над своими поэмами, он вплотную подошел к проблеме выработки новой техники письма, видел перед глазами пример Шёнберга и Стравинского. Каждый из них имел свою точку зрения. Для Равеля особо важное значение приобретали вопросы вокальной просодии, причем совсем иные, чем решавшиеся в шёнберговском Schprechstimme. Ритмическая структура мелодического голоса тесно связана со стихом Малларме, а вместе с тем особенностями живого французского языка, к чему композитор был неизменно чуток. Равель стремился передать свойственное поэту сочетание изысканности и своеобразно понятой эмоциональности, найти его музыкальное претворение в соответствии со своей концепцией стиля. Задача тем более трудная, что здесь уже происходили важные изменения.
Первая поэма — «Вздох» — выражение спокойной, чуть усталой лирики, проникнутое той уравновешенностью звучания, которая встречалась у Равеля и раньше, но приобрела теперь еще большую утонченность в музыке, вдохновленной образами осеннего увядания, лазури над прудом, усеянным упавшими в воду желтыми листьями. Эта картина могла бы привлечь внимание художника-импрессиониста, но также и поэта, создавшего сложную систему символов. Композитор сосредоточил внимание на звукописи осеннего пейзажа и вместе с тем грустной успокоенности, приобретающей в его музыке черты проникновенной элегии, сдержанной в своем выражении, несколько напоминающем о манере Форе, но, конечно, лишь в ровности эмоционального тона.
В музыке поэмы два раздела, объединенных ближайшим родством мелодического материала. Ладово-гармоническая основа первого диатонична, во втором чувствуется стремление к хроматизации, к сложно-диссонантной аккордике, что, как и обычно у Равеля, не нарушает тональной основы. Она повсюду ясна, и это принципиально отличает равелевские поэмы от шёнберговского цикла, с которым их так часто сравнивали.
Поэма начинается спокойно колышущимися пассажами фортепиано на белых клавишах (лишь в конце появляется звук fis), сохраняющими почти неизменным рисунок первого такта. Это образ водной глади, не раз привлекавшей внимание Равеля. На однообразном фоне аккомпанемента выступает чисто диатоническая мелодия голоса, четкая по линии интонационного развития, приводящего к точно намеченной вершине. Мелодия развертывается на одном дыхании, что особенно впечатляет в сочетании с единством образа фортепианного сопровождения. Черты равелевской лирики окрашивают и музыку второго раздела поэмы, где тематический материал несколько преображен. Важное значение приобретают здесь хроматические обороты мелодии и особенно гармонии, в которой встречается много типичного для композитора, например, сходящиеся аккорды на органном пункте (Un peu plus lent), а также излюбленные им неразрешенные аккордовые задержания. Поэма заканчивается ладово устойчиво, спокойно и просветленно. В этом же духе воплощает стихотворение Малларме и Дебюсси, у него также чувствуется тяготение к диатонике, хотя и несколько хроматизированной.
Вторая поэма — «Тщетная мольба» — сложнее по рисунку (в основе своей также диатоничному) и, главное, по фактуре, изобилующей септаккордами и довольно редкими у Равеля увеличенными трезвучиями. Равель остается в рамках своей гармонической системы и вокальной просодии, находя, однако, новые средства и повороты. Музыкальная ткань поэмы узорная, как бы переливчатая, с ее игрой изящно очерченных пассажей, оттеняющих мелодию, с широкими интервальными ходами.
Композитор остается в мире утонченной светлой лирики. Сквозь все интонационные ухищрения выступает выразительный мелодический рисунок, отмеченный всеми приметами равелевского стиля. Все аккорды вырастают из того же зерна, что и в «Дафнисе и Хлое»: связь реально ощутима. Вокальная мелодия пластична, естественна по интонации при всей необычности своего строения. В этом нет ничего надуманного — звуковая структура услышана автором до малейшей детали — отсюда ее органичность. И это типично французская музыка, во многом близкая не только Дебюсси, но и Форе, и Шоссону, — есть некоторые общестилистические черты, объединяющие разных мастеров в пределах одной национальной школы. Они чувствуются, в частности, в чистоте стиля и в никогда не изменяющем чувстве меры.
Мелодическое развитие свободно, не связано предписаниями строгого письма, постоянно изменчиво в пределах, указанных композитором. Гибкость интонации свойственна всем трем поэмам, как и стихам Малларме, в которых по-своему понятая точность в отборе слов сочетается с применением «техники неопределенности», связанной с нормами символистской эстетики. Они оживают и в музыке: в изменчивости звучания, в мягкости и нежности красок, во всем, что делает поэму одной из ярчайших страниц предвоенного творчества Равеля. Возможно, что это один из последних всплесков волны, пробужденной «Дафнисом и Хлоей» (см., например, аккомпанемент в эпизоде lere mouvement un peu plus lent). Дебюсси нашел для тех же стихов более простое, но не менее убедительное решение, несколько напоминающее такие его произведения, как прелюдия «Дельфийские танцовщицы» либо «Античные эпиграфы».
Третья поэма — «На крупе скакуна лихого» — самая сложная по гармонии, фактуре и образному содержанию, вполне в духе стихов, принадлежащих к числу наиболее эзотерических в наследии Малларме. Под стать стихам и музыка с ее неразрешаемыми аккордовыми задержаниями, септаккордами, создающими колорит звучания; они снова вызывают в памяти стиль «Дафниса и Хлои». Кажется, что Равель стремится к своего рода концентрации гармонии, возникающей в сочетании четких линий голоса и созвучий фортепиано. Композитор широко пользуется приемами техники краткого штриха, что не мешает ему создавать плавные, полные истомы мелодии в духе и стиле поэтической концепции, сохраняющей свою власть над ним.
Все эти стилистические особенности выступают в полной мере уже в фортепианном вступлении с его хрупкими и прозрачными звучаниями. Изощренна по своему интонационному рисунку и первая вокальная фраза. Он вводит слушателя в образно-психологическую сферу поэмы.
Легко заметить необычность ладово-интонационного строения вокальной партии, где не всегда улавливается тональная основа. Возможно, это одно из наибольших у Равеля приближений к границе атональности, которую он, однако, не перешел, оставшись верным своей звуковой концепции. Это можно сказать и о гармонии, где большинство сложных образований сводится к характерно равелевским септаккордам, часто с добавлением апподжатур. Так создается красочное, подчас таинственно-неопределенное звучание, иногда появляются и чистые трезвучия, возникающие на басу. являющемся задержанием к тонике и украшенном задержанием к квинте. Это, казалось бы, должно нарушить ясность звучания, но благодаря искусному регистровому расположению отдельных комплексов композитор избегает этой опасности. Как и обычно у Равеля, всё строго логично. Однако цепь музыкальных соответствий достаточно сложна для того, чтобы подводить ее под обычные схемы. Новые устремления Равеля в известной мере совпадают с путями европейского модернизма, но не настолько, чтобы привести к утрате собственного лица и почерка. Это можно увидеть при соспоставлении не только с «Лунным Пьеро» Шёнберга, но и с более близкими французскому композитору «Тремя стихотворениями из японской лирики» Стравинского. Как известно, Равель также не остался равнодушным к искусству Страны восходящего Солнца, но воспринимал его иначе, чем Стравинский. Автор «Трех стихотворений» во многом исходил из принципов японской гравюры: «Графическое разрешение проблем перспективы и объема, которое мы видим у японцев, возбудило во мне желание найти что-либо в этом роде и в музыке», — писал он в своей «Автобиографии». Равель воплощает поэтические образы в причудливом интонационном рисунке, где каждая черта обусловлена характерностью его родного языка.
«Три поэмы Малларме» написаны в то время, когда Равель не отошел еще полностью от принципов импрессионизма. В них слышится перекличка с миром исканий Дебюсси, переживавшего аналогичный период своей творческой эволюции. Оба композитора чутко воспринимали изменение атмосферы искусства, намечали новые пути.
«Три поэмы Малларме» обозначили кульминацию равелевской усложненности — гармонической и фактурной, — один из последних отсветов эпохи, закончившейся в 1914 году под гром орудий. Равель продолжил линию новых стилистических исканий в написанном в том же году Трио для фортепиано, скрипки и виолончели.
И. Мартынов